The
Kuzmin
Collection
The Electronic Text Centre
§
Dalhousie University
§
Halifax,
Nova Scotia,
Canada
etc@dal.ca
http://etc.dal.ca/
902-494-2319 (fax)
Last updated
26 October 2000
Contact
the ETC
Dalhousie
University
Dalhousie
University Libraries
DISCLAIMER
The Electronic Text Centre is a project of the Dalhousie Electronic Text Working Group, with participation from Dalhousie's Killam Library, the School of Library and Information Studies, the Department of English, and Academic Computing Services.
Dalhousie University

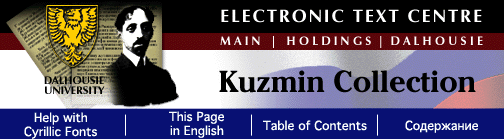
Кузмин: Вводная статья
"М. Кузмин - простой и ясный художник. Понятным можно было
бы его назвать, если бы его понимали. Но мало доступны постижению
современников и самый род его творчества, и эта гармоническая согласованность
многострунной души, радостно приемлющей жизнь и все ее `милые, хрупкие
вещи' - в доверчивой покорности Богу."1 К этому заключению пришел
Вячеслав Иванов в одном из немногих чутких отзывов на ранюю прозу автора.
Десять лет спустя, в 1920-м году, Борис Эйхенбаум все еще счел нужным следующее
заявление: "Проза Кузмина еще не вошла в обиход - тем интереснее говорить
о ней. Его знают и любят больше как поэта".2 То же самое
можно сказать и сегодня, несмотря на неоднократное перепечатывание его
произведений, начиная с выхода трехтомного собрания стихотворений в Мюнхене
в конце семидесятых годов, с обширными комментариями Владимира Маркова
и Джона Малмстада, и включая теперь многочисленные переиздания Кузмина
в самой России. Каждый год публикуются ценнейшие архивные материалы,
появляются скрупулезные исследования творческого наследия Кузмина, но его
проза (за возможным искючением повести "Крылья") все еще недооценивается.3
Это - странный случай близорукости критиков и лишнее подтверждение аксиомы Романа Якобсона, сформулированной в статье от 1935-го года "Randbemerkungen zur Prosa des Dichters Pasternak": "Die vorderen Stellungen der russichen Wortkunst der ersten Jahrzehnte unseres Jahrhunderts gehoren der Dichtung, eben die Dichtung wird hier als merkmallose, kanonische Ausserung der Literatur, als ihre reine Inkarnation empfunden."4 Неосознанная сила этой аксиомы так воздействовала на мышление критиков, что в обсуждениях знаменитой profession de foi Кузмина "О прекрасной ясности" обычно применяли его эстетические выводы непосредсвенно к поэзии, якобы не обращая внимания на подзаголовок "заметки о прозе"; Денис Мицкевич даже предполагает, что этот подзаголовок был приложен к статье "to diminish any possibility of controversy".5 Важна была именно поэзия: "Bis auf wenige Ausnahmen ist die berufsmassige Kunstprosa dieser Epoche eine typische Epigonens-produktion, eine mehr oder weniger erfolgreiche Reproduktion klassischer Muster; das Interesse dieser Machwerke liegt entweder in der gelungenen Nachahnung des Alten oder in der grotesken Verwilderung des Kanons oder aber besteht das Neue in der schlauen Anpassung neuer Thematik an vererbte Schablonen".6 Однако проза Кузмина, хотя она сначала может показаться идеальным воплощением якобсоновской оценки прозы эпохи, на самом деле превышает ее, преобразовывая ее составные части до такой степени, что сам Борис Пастернак, один из "немногих исключений" Якобсона, мог подписать подаренный Кузмину экземпляр своих "Избранных стихов" 1926-го года: "Прошлой зимой я перечитывал Вашу трехтомную прозу, и это было любимейшим чтением того года."7 Проза Кузмина постоянно переплетается с его поэзией; кроме того, существует целый ряд систематических взаимосвязей его рассказов, повестей и романов между собой. В своих лучших страницах эта проза достигает тех качеств, к которым стремился Доктор Живаго:
Всю жизнь мечтал он об оригинальности сглаженной и приглушенной, внешне неузнаваемой и скрытой под покровом общеупотребительной и привычной формы, всю жизнь стремился к выработке того сдержанного, непритяжательного слога, при котором читатель и слушатель овладевают содержанием, сами не замечая, каким способом они его усваивают.8За своими обманчивыми ширмами небрежной банальности проза Кузмина, точно так же как и проза Пастернака, прежде всего проза поэта. Экономность ее формы и многоголосная чистота ее стиля требуют у читателя не только чуткости к языку, не только участия в судьбе ее героев, но и тщательного анализа текста на фоне глубоких и разнообразнейших знаний самого Кузмина, одного из самых эрудированных авторов эпохи, славящейся своей многогранностью. Невозможно, конечно, все установить или восстановить, но мы можем, по крайней мере, предложить возможные подходы к текстам и установить их исторический и художественный контекст.
Человек широких знаний, талантливый писатель, композитор и драматург, остряк и отличный рассказчик, Михаил Алексеевич Кузмин (1872-1936) до сих пор избегает сеть критиков, которые обычно пытаются его уловить где-то между символизмом и акмеизмом. Неслучайно два самых обстоятельных исследования его творческого наследия называются "Блок и Кузмин" и "Ахматова и Кузмин", заглавия, намекающие на его уровень, но и открывающие те ограничения, которым подвергается оценка его художественных достижений. Хотя он ближе, может быть, к символизму, чем к акмеизму, Кузмин не явяется ни исключительным продуктом первого, ни всего лишь предтечей последнего. Его отношения с этими двумя течениями и с главными их представителями были довольно сложными. Он изобразил Сологуба в карикатурном виде в повести "Картонный домик", но воспользовался его произведениями в качестве источников образов и сюжетов. Он любовался Брюсовым, но отчетливо подчеркивал различия в их подходах к историческим темам. Сначала подлинный ученик Вячеслава Иванова, он постепенно удалялся от него, создавая свою собственную эстетику в сопротивлении символизму и остро, хотя и косвенно, критиковал своего учителя в статье "О прекрасной ясности". Ранний опекун акмеистов, автор предисловия к первому сборнику стихов Ахматовой "Вечер", человек, который выбрал название "Tristia" для второго сборника стихов Мандельштама, он с самого начала весьма сдержанно относился к Гумилеву в своих рецензиях на его произведения, и с годами все резче критиковал акмеизм в таких очерках, как "Парнасские заросли" и "Чешуя в неводе". Творчество Кузмина, хотя оно связано множеством нитей с творениями этих и других авторов, остается в конечном итоге его собственной, уникальной тканью.
Лучшая критика Кузмина стремится характеризовать эту ткань на фоне биографических данных или философских взглядов Кузмина. Но попытки свести его повести "Крылья" и "Картонный домик" или роман "Плавающие путешествующие" к romans a clef или a these не получаются. Они не принимают во внимание ни систематическую ономастическую эволюцию персонажей Кузмина из произведения в произведение, ни калейдоскопическую сочетаемость их физических и психологических черт. Эти структурные элементы, взятые вместе с постоянно развивающимися подробностями сюжета, местами действия, и даже отделыными репликами, способствуют сотворению кузминского мира прототипов, совершающих квази-мифические поступки с пародийным и почти мистическим значением. Это мир, в котором биография Кузмина и его философские поиски подчиняются большей цели художественного эффекта. В этом Кузмин похож на Набокова, и нетрудно понять, почему Набоков обратился именно к самопорождающей и замкнутой системе произведений Кузмина, чтобы создать важные составные части романа "Соглядатай" 1930-го года и рассказа 1931-го года "Уста к устам".9
Прием открытого использования автобиографических данных в художественных произведениях сближает Кузмина не столько с Набоковым, сколько с Андреем Жидом. Подобно Жиду, он вел пространный дневник, который, судя по замечаниям современников, по открывкам, опубликованным самим Кузминым в 1922-м году под названием "Чешуя в неводе" и по более полным выдержкам, появлявшимся за последние годы в России, играл по отношению к его прозе ту же роль, которую журнал и тетради Жида играли по отношению к его творчеству.10 Оба писателя славились своей откровенной трактовкой темы гомосексуализма: Жид в романе 1902-го года L'Immoraliste, а Кузмин в повести "Крылья", появившейся в 1906-м году. И Кузмин и Жид равнодушно относились к Вагнеру; и тот и другой любовался Достоевским, хотя у обоих писателей это выразилось в форме пародии: можно принимать Лафкадио в романе Les Caves du Vatican как своего рода высмеивание Раскольникова, тогда как роман "Тихий страж" у Кузмина является пародией "Братьев Карамазовых". Поражает, наконец, сходство между словами Вячеслава Иванова, процитированными в начале этой статьи, и замечанием Куртиуса в разговоре о Жиде с Клаусом Манном, что "на самом деле нет в этом человеке ничего парадоксального. Наоборот, он более гармоничен, в известном смысле, чем любой другой известный мне человек. Гармоничен сложнейшим образом, поймите меня правильно. Так же, как мог быть гармоничным наш старый Гете - весь самоуверенный и спокойный, несмотря на известные две души, живущие вместе в его груди, увы. Но почему же не может сильный и умный парень овладеть и шестью душами, если нужно?"11
Перед Кузминым стояла задача овладеть, если не шестью душами, то хотя бы тремя, в борьбе за самообъединение, которое продолжалось всю жизнь. Джон Малмстад излагает эту борьбу в двух отличных книгах о Кузмине, к которым может обратиться читатель, интересующийся ее подробностями.12 Здесь мы даем только основные моменты его развития до начала его профессиональной литературной деятельности с его выступлением в декабре 1904-го года в "Зеленом сборнике". Так как Кузмин начал печататься сравнительно поздно, когда ему уже было тридцать два года, многие из его взглядов на искусство формировались именно в этом периоде, до того, как он решил посвятить себя литературе.
К. Н. Суворова подтверждает заключение Малмстада, что Кузмин родился не в 1875-м году, а в 1872-м.13 Русского и французского происхождения (предполагалась связь с Теофилем Готье), Кузмин принадлежал семье старообрядцев. Вскоре после его рождения семья переехала из Ярославля в Саратов, где через несколько лет он начал свое образование. Круг его раннего чтения включал Шекспира и Э. Т. А. Гоффмана, потом Сервантеса и Скотта, а потом греческую литературу, Мольера и fabliaux. Он рано полюбил музыку и театр. Одна из его подруг, "маленький синий чулок" Зина подтолкнула его к творчеству. Известно название одной из трех недошедших до нас новелл: "Ганс Беккар".
Из Саратова в 1885-м году семья переехала в Санкт Петербург, где Кузмин продолжал свое образование в восьмой гимназии. Здесь он познакомился с Георгием Васильевичем Чичериным, в последствии ставшим известным советским дипломатом, и оказавшим огромное влияние на него. Чичерин помог Кузмину расширить свое знание философии: именно теперь он начинает изучать Шопенгауера, Ницше, Ренана и Тайна. Их сблизил и гомосексуализм, что свидетельствует дневник Кузмина уже в 1893-м году. Кузмин старается примирить эту часть своей внутренней жизни со своим религиозным воспитанием, но ему не удается: он переживает большой эмоциональный кризис, доходящий до попытки самоубийства ядом в конце 1896-го года. Судя по приведенному ниже отрывку из дневника 1905-го года, существует возможность, что он страдал от размножения личности.
В 1891-м году Кузмин поступил в консерваторию, где он учился у Римского-Корсакова. Он прошел только первые три года программы, предпочитая работать над собственными сочинениями. В эти годы он начал интенсивно изучать итальянскую музыку и литературу. К концу 1892-го года по совету Чичерина он начал заниматься немецким языком. В это время французская и русская литература упоминается все реже (чаще всего упоминаются Муссе, Маупассан и Пьер Лоти; среди русских - Тургенев и Дельвиг), но изобилуют ссылки на итальянских и немецких писателей: на Данте и авторов итальянского возрождения; на Гете, Гейне и Шиллера.
К 1895-6 годам принадлежат предварительное изучение Плотина и первые попытки формулировать собственные взгляды на природу искусства. В это время Кузмин колеблется между оптимизмом и пессимизмом, между принятием романтической идеи трагического одиночества художника и чувствами вины, необходимостью расскаяния. В письме от ноября 1896-го года он выражает свое первое художественное кредо:
Чистое искусство зарождается и завершается в своем собственном, замкнутом, оторванном от всего мира круге с особыми требованиями, как мир больного безумца (хотя бы и идеальный, и стройный, но в своей обособленности и отвлеченности безумный).14Кузмин остается в стороне от общественных и политических движений того времени: народничество могло привлекать Чичерина, но оно мало интересовало Кузмина.
Чувства вины - о его гомосексуализме и о выборе музыки как профессии, несмотря на семейные возражения - привели Кузмина к сравнительному изучению разных религий и, наконец, к мистицизму. Поездка в Египет в 1895-6 годах, которая дала ему богатые материалы для многих произведений, все-таки не открыла ему выхода из духовного тупика. Его здоровье ухудшилось, и врачи настаивали на второй поездке. Принимая их советы, Кузмин поехал в Италию весной 1897-го года.
Владимир Марков описывает огромное влияние этой поездки на творчество Кузмина.15 Она служила фоном для третьей части повести "Крылья" и внесла свой вклад в несколько циклов стихотворений. Во Фирензе Кузмин отдавался влиянию католического священника, канона Мори, и, может быть, на некоторое время перешел в католицизм. Хотя он вскоре разочаровался в Мори, итальянская поездка все-таки дала ему толчок к изучению ранних отцов церкви и францисканских поэтов, темы, которые отражаются в его поэзии и прозе.
Хотя благодаря этой поездке здоровье Кузмина действительно улучшилось, она не могла разрешить его духовный и эмоциональный кризис. Его изучение гностицизма и неоплатонизма не могло облегчить чувство одиночества и отчужденности от окружающего мира. Оно вело его к возрастающему желанию найти недостигаемую систему абсолютных ценностей. Эти поиски нашли свое отражение в его определении искусства:
Не в том ли цель, чтобы пробуждать дремлющее творчество в каждом человеке? И чем избраннее человек, тем глубже он воспринял, тем сильнее искусство? Но тогда, кто знает, чем оно пробуждает? Это уже совершенно неопределенно и менее осознательно, чем абсолютная красота, которая, раз постигнутая интуитивно, уже пребывает, хотя бы по воспоминанию...16Кузмину все еще не удавался синтез христианского с классическим. Такое сочетание дало бы ему возможность сохранить свою веру и одновременно принять те стороны своей личности, которые эта вера осуждала. После возвращения в Россию Кузмин поехал на север. Об этом периоде в его жизни имеются только скудные сведения. По-видимому он посвятил себя изучению старой веры, собирая иконы и углубляясь в старообрядческую музыку; он жил в это время в разных монастырях около Костромы и Нижнего Новгорода.
Пребывание в этой религиозной среде, вместе с посещением друзей и родственников и продолжающимся изучением Плотина будто успокоило Кузмина. Когда он вернулся в Санкт-Петербург в 1901-м или 1903-м году, он снова принялся за сочинение музыки. К тому же, он начал писать собственные тексты к песням, одни в форме сонетов, другие, на египетские темы, в свободных стихах. В 1904-м году Чичерин познакомил его с сотрудниками журнала "Мир искусства". В дружеской компании Сергея Дягилева, Александра Бенуа, Леона Бакста и особенно Вальтера Нувеля и Константина Сомова Кузмин начал воплощать свои мысли об искусстве в своеобразных литературных произведениях, синтезируя свои широкие знания литературы с влиянием двух немецких писателей, Иоганна Георга Гаманна и Вильгельма Гейнза. Итак Кузмин пишет повесть "Крылья" и циклы стихотворений, которые впоследствии вошли в его первый сборник "Сети". Семья молодого поэта Юрия Верховского, с которым он тогда дружил, тоже поощряла его на этот путь. Кузмин работает всерьез, и в декабре 1904-го года выходит "Зеленый сборник стихов" и прозы с тринадцатью его сонетами и поэмой "История рыцаря d'Alessio". Литературные критики не особенно тепло приветствовали их появление, но вскоре его "Александрийские песни" привлекли внимание Валерия Брюсова, который решил поместить их в "Весы". Через несколько месяцев в тех же "Весах" появляется повесть "Крылья", скандальный успех которой и обозначает окончательное поступление Кузмина в русскую литературу.
С самого начала своей литературной деятельности Кузмин был новатором и в поэзии и в прозе. "Александрийские песни" являются первой большой совокупностью свободных стихов на русском языке, тогда как повесть "Крылья" представляет собой первое распространенное изложение темы гомосексуализма в русской литературе. Тематическое и даже сюжетное единство этих двух видов литературы, их слияние в один художественный мир, и является самым важным новшеством Кузмина.
Проза и поэзия Кузмина взаимосвязаны, переплетены друг с другом в одной огромной сети. Кузмин часто прибегал к образу сетей в изображении своего творческого процесса. Само слово `сети' служит названием его первого сборника стихов; слово `невод' входит в заглавие опубликованного отбора тщательно расставленных отрывков из его дневника, но в этом контексте признается в какой-то неудаче, в неулавливании какой-то сути искусства или жизни. И то и другое слово годятся в эмблемы: с точки зрения этимологии `текст' обозначает что-то вытканное, и в случае Кузмина эта ткань и есть сети/невод, в которых нитки смысла функционально не важнее тех интервалов загадочности, которые они создают и окружают. Для Кузмина, погруженного в сложных традициях гностицизма, творчество начинается разделением, но в то же время оно и является поиском синтезирующего разрешения конфликтов, присущих понятиям фигуры и грунта, формы и хаоса, христианства и платонизма. Оно одновременно и паломничество и одиссея.
Слова `сети' и `невод' служат осями системы координат, разделяющей и объединяющей мир Кузмина. Они и констатируют его главные темы, и устанавливают отношения между ними. Мы можем иллюстрировать этот принцип путем анализа двух смежных стихотворений из "Стихов об искусстве" в сборнике "Параболы". Этот анализ покажет взаимозависимость кузминских текстов вообще и в частности предложит возможное толкование второго стихотворения, считавшегося загадочным Марковым и Малмстадом в своих комментариях:
МузаВ глухие воды бросив невод
Под вещий лепет темных лип
Глядит задумчивая дева
На чешую волшебных рыб.То в упоении зверином
Свивают алые хвосты
То выплывут аквамарином
Легки, прозрачны и просты.Восторженно не разумея
Плодов запечатленных вод
Все ждет, что голова Орфея
Златистой розою всплывет.1922. Февраль.17
В раскосый блеск зеркал забросив сети
Склонился я к заре зеленоватой,
Слежу узор едва заметной зыби, -
Лунатик золотеющих озер!
Как кровь сочится под целебной ватой,
Яснеет отрок на гранитной глыбе,
И мглой истомною в медвяном лете
Пророчески подернут сизый взор.
Живи, Недвижный! затрепещут веки,
К ладоням нежным жадно припадаю
Томление любви неутолимой
Небесный спутник мой да утолит.
Не вспоминаю я и не гадаю, -
Полет мгновений, легкий и любимый
Вдруг останавливаешь ты навеки
Роскошеством юнеющих ланит.
1922. Апрель.18
Расположенные на смежных страницах, связанные своим соседством и параллельным
синтаксисом своих первых строк, эти стихотворения изображают Орфея и Нарцисса
в форме опекунских божеств двух стадий в творчестве Кузмина,19
вовлекая его характерные образы: рыб, зеркала, сети/неводы и путешествия.
К тому же они устаналивают сеть перекликаний с другими произведениями Кузмина
и Вячеслава Иванова, рисуя тонкую полемическую картину творческого пути
Кузмина.
Как и в "Чешуе в неводе", `невод' в "Музе" не достигает своей цели:
задумчивая дева напрасно ждет, чтобы голова Орфея всплылась златистой
розой, потому что она не узнает ее уже осуществившегося воплощения в форме
алых рыб. Легкие, прозрачные и простые, они являются плодом последней стадии
того творческого процесса, который Кузмин описал в статье "О прекрасной
ясности", употребляя то же слово `запечатлеть':
Связь между Орфеем и Нарциссом, установленная в этих двух стихотворениях,
напоминает их косвенное слияние в рассказе от 1916-го года "Мачеха из Скарперии",23
стилизованном
итальянском повествовании об отреченной страсти и мести, где сочетаются
многие образы, которые Кузмин в последствии развивал в гностических стихотворениях
"Нездешних вечеров" и в "Параболах", создавая своеродную смесь классических
и христианских элементов.24 Герой рассказа - Нарчизетто (итальянское
уменьшительное от Нарцисса) возбуждает в своей мачехе Валерии страсть,
подобную ту, что испытывала Федра. Когда он отвергает мачеху, она
велит прислугу убить его и принести ей его голову, которую она погребает
под кустом. Карлик Никола, сам ревнующий Нарчизетто к Валерии и начавший
смертельную цепь событий, позже показывает голову ее мужу. Когда открылось
страшное преступление, сначала хотели сослать Валерию в монастырь, но она
опередила эту участь и в отчаянии повесилась.
Предзнаменующим сравнением Кузмин тонко связывает погребение головы
Нарчизетто с судьбой головы Орфея, выброшенной в воды реки Геброса:
Переход от "Музы" на второе стихотворение сопровождается чувством облегчения:
размер расширяется на пятистопный ямб и само стихотворение длиннее своей
пары на четыре строки. Глухие воды заменяются раскосым блеском зеркал:
природа заменяется свойством человеческого изобретения. Прилагательное
`раскосый' перекликается с `косыми соответствиями [...] зеркальных сфер'
из первого стихотворения сборника Параболы.32 Образ зеркальной
сферы, который таким образом сочится в начальную строку второго стихотворения,
появляется и в прозе Кузмина, образуя центральный предмет рассказа "Шар
на клумбе".33 Включая в себя весь мир, соединяя начало с концом,
это один из нескольких символов парменидовского единства, применяемых Кузминым
в поисках примирения платонизма с христианством.
Oдна из функций связи между стихотворениями "Муза" и "В раскосый блеск
зеркал..." и в особенности между их первыми строками выясняется, если рассмотрим
их в свете еще одного `зеркального' стихотворения, который снабдит их `шаблоном'
, т.е., предварительной структурой восприятия:
Для Кузмина зеркало является органом памяти, человеческой способности,
связывающей прошлое с настоящим:
Зеркало, как видно, устраняет изображения тех двойственностей, которые
для Кузмина были самыми раздражительными свойствами символизма.39
В стихотворении "В раскосый блеск зеркал... " оно объединяет воду с небом.
Это объединение играют ту же роль, что и грамматическое двузначность первых
строк первого стихотворения в Параболах:
(В колодце ль видны звезды, в небе ль?)41
Как и сети/невод, зеркало одновременно соединяет и различает, разделяет
и связывает. Когда персона Кузмина или его персонажи смотрят в зеркало,
они вообще видят не себя, а кого-нибудь другого, или себя в форме Другого.42
Образ в зеркале в стихотворении "В раскосый блеск зеркал..." можно точно
определить. Первая улика дается ярким сравнением в пятой строке,
так как раны у Кузмина - всегда раны любви:
Палящий пламень грудь мне жег,
В этих двух примерах Вожатый ранит поэта в знак своей любви. Конец
любви отождествляется с исцеленной раной:
Свежим утром рано рано
Возвращение любви обозначается снова открывшейся раной:
По струнам лунного тумана
Во сне ли я, в полуденном ли плене
Вдруг облак золотой средь неба стал
Сквозь звон и плеск, и трепет, как металл,
Стихотворение "Муза" таким образом составляет своего рода "шаблон" для
чтения стихотворение "В раскосый блеск зеркал... ", точно так же, как и
творчество Кузмина в целом необходимо чтобы толковать оба стихотворений.
Задумчивая дева неправильно воспринимает единство рыб и златистой розы
как двойственность; так и читатель сначала принимает дихотомию персоны
и отрока во втором стихотворении. Однако когда эта дихотомия рассматривается
на фоне творческого мира Кузмина (что необходимо, если правильно понять
название раздела "Стихи об искусстве"), она оказывается иллюзией, произведенной
присущими разграничениями человеческого восприятия. Когда сонет Князеву
и стихотворение "В раскосый блеск зеркал... " читаются вместе, персона
и отрок полностью сливаются.
Это присущее единство резко противостоит двойственностям раннего ментора
Кузмина, Вячеслава Иванова. Разницу можно установить на основании широкого
материала, но ограничимся тут двумя перекликаниями с Ивановым, полемически
примененными в этих стихотворениях.51
Образ головы Орфея, всплывающей золотистой розой, сливает два смежных
образа из пролога к пятой книге сборника Иванова Cor Ardens, носящей
название "Rosarium":
Более сложное перекликание устанавливается между стихотворением "В раскосый
блеск зеркал..." и эпилогом к циклу "Rosarium" названному "Eden". В этом
стихотворении Иванов проводит четкую линию между Богом-отцом, связанным
с глубинами любви и океана, и сводом небес, сравнивающимся с потолком тюрьмы.
Персона, выраемая от первого лица множественного числа, отождествляет себя
с сетями:
Этот пример, начиная с образа сетей/невода, и показывая как этот образ
переплетается с другими образами у Кузмина, также иллюстрирует взаимодействие
его прозы и поэзии в качестве комментариев друг о друге. Во многих случаях
проза Кузмина включает в себя отдельные стихи (например, "Тень Филлиды",
"Повесть об Елевсиппе", рассказанная им самим, "Нежный Иосиф" и "Приключения
Эме Лебефа"), или же связывается с параллельными циклами стихов (например
"Картонный домик" с циклом "Прерванная повесть"). Но если сложная взаимная
игра, которая появляется в результате таких сопоставлений, образует как
бы основу кузминских текстов, их утком служат взаимоотношения отдельных
прозаических произведений между собой. Евгений Зноско-Боровский,
первый биограф Кузмина и, может быть, самый систематический его критик,
указывает на то, что "есть большая близость и в построении, и в настроениях
между тремя большими вещами Кузмина, которые не один раз цитируются нами,
именно: "Нежный Иосиф", "Мечтатели" и "Тихий страж". Борьба, которая идет
вокруг героев, защищаемых несколькими `тихими' стражами от посягательств
дельцов, сближает эти романы до отдельных частей одной большой эпопеи".55
Послереволюционное творчество Кузмина обладает этим качеством еще в болышей
степени.
То, что отдельные части прозы Кузмина сочетаются в одном целом объясняет
ощущение недосказанности, загадочную незавершенность таких произведений,
как "Повесть об Елевсиппе","Тень Филлиды", "Флор и разбойник" и "Золотое
небо", или "Крылья", "Двойной наперсник", "`Высокое искусство'",
Нежный Иосиф, "Мечтатели", "Плавающие путешествующие", и "Тихий страж",
увеличивая значение таких поверхностных и будто второсортных рассказов,
как "Дама в желтом тюрбане" (разработка одной подробности романа "Плавающие
путешествующие") или "Петин вечер" (повторное рассмотрение проблемы перспективы,
соответствупщее более тонкой трактовке проблемы в сказке "Высокое окно").
На основе анализа таких межтекстовых отношений можно установить, что различия
в стиле уцелевших послереволюционных произведений Кузмина в сравнении с
его дореволюционной прозой, часто характеризующиеся как сближение с экспрессионизмом,
на самом деле мотивированы разработкой приемов, присутствующих в самых
ранних его произведениях. Они представляют собой результаты органического
развития, а не разрыв с прошлым.
Это прошлое укореняется в очень сложной и своеобраной смеси литературных
традиций, которая, как указывает Эйхенбаум, сочетает Латинский Запад (Анри
Ренье и Анатоль Франс среди современных; Сорель, Лесаж и Прево среди мастеров
плутовского романа) с экзотикой древней Руси, взаимствуя материал и у Лескова,
которого Эйхенбаум называет единственным русским учителем Кузмина. "Так
сразу определились две линии в прозе Кузмина - изящного, забавного рассказчика,
каким он остается в своих мелких вещах, имеющих иногда вид простых анекдотов
("Реплика", "Машин рай", "Предрассудок"), а иногда заразительно-смешных,
озорных, как "Антракт в овраге" или "Шар на клумбе", и загадочного, несколько
сумбурного бытописателя, не лишенного тенденциозности - линии, кстати сказать,
характерные и для творчества Лескова.56 Марков замечает, что
в своем стихотворении "Мои предки" сам Кузмин поощряет эту мысль
о двойственности, которую подхватывают Блок и Дикс и оттуда проникает в
многие литературные пособия,57 но в конечном итоге надо искать
источник этой формулировки еще раньше, в лекции Вячеслава Иванова от 14
апреля 1907-го года "Пути и цели современного искусства", напечатанном
в журнале "Золотое руно" под названием "О веселом ремесле и умном веселии".
Двойственность, как шаблон в анализе творчества Кузмина, разделение его
на `русского' и `нерусского', таким образом отмечается в самом раннем периоде
его творчества, когда он еще считался и, вероятнее всего, считал
себя учеником Иванова. Такая характеристика однако не принимает во
внимание ни его собственные выступления об эстетике, ни основную художественную
форму его творчества в целом, но все-таки может служить начальным пунктом
для дальнейшего исследования. Ведь сам Кузмин неоднократно заявлял в своей
поэзии и прозе: "Где двое связаны, третье рождается".58
В докладе, прочитанном в "Бродячей собаке", Кузмин подсказывает своим
читателям тройной подход, который лучше всего подходит его творчеству.59
В
этом докладе он описывает три пути, которые открылись перед русской прозой
после торжества модернизма 1890-х годов и последовавшего за ним закрытия
его журнала "Весы". Все три подхода отражаются в его собственном творчестве:
путь простоты (Пушкин), путь русской пестроты и преувеличения (Гоголь через
Лескова) и путь рафинированного языка интеллигенции (Тургенев через Чехова).
Настоящее новаторство в прозе должно быть простым; новшества приемов быстро
стареют. Кузмин излагает эту точку зрения и в предисловии к роману
Юркуна "Шведские перчатки":
Шахматный гроссмейстер Зноско-Боровский впервые указал на любовь как
основной принцип творчества Кузмина:
В одном из своих последних сохранившихся рассказов, "Златое небо", Кузмин
как будто дает окончательную формулировку основной роли Эроса в своем творчестве:
Творческие методы Кузмина глобальные, самопорождающие, самостоятельные;
цель его творчества - объединение, а не разчленение, созерцание (в старом
смысле римского авгура, отмечая посохом удобный наблюдательный пункт),
а не размышление. Именно эти его качества определяют структуру настоящего
очерка. Мы попробуем привести в движение ту "цветную спираль в маленьком
стеклянном шарике", которую Набоков сделал эмблемой своей жизни в книге
"Говори, Память", таким образом порождая двойной геликс, возвращаясь снова
и снова на одни и те же темы, но каждый раз на более глубоком уровне понимания.
Он состоит из двух вопросов: каково отношение прозы к поэзии? и каково
отношение прозы к самой себе? Основные формулировки кузминской теории художественного
творчества могут служить удобными наблюдательными пунктами, с которых можно
будет сделать обзор его прозы вцелом. Воплощая своей структурой взгляды,
ими провозглащенные, они являются как бы микрокоcмами его творческого пути
и, взятые вместе со "Стихами об искусстве" и отдельными другими стихотворениями
на эту тему, образуют основу для понимания его работы.
Статья "О прекрасной ясности", с ее классической симметричностью, архитектурными
метафорами и тонкой полемикой с Вячеславом Ивановым, является не програмной,
а итоговой, когда мы читаем ее в контексте художественной прозы Кузмина.
В ней формулируются основные принципы той стилизации, которую он применил
во многих ранних произведениях, но одновременно она отмечает его переход
от преобладания стилизации как таковой на пародийные и самопародирующие
произведения его "халтурного периода", как его называет Владимир Марков,75
который
начинается с повести "Покойница в доме" и сказок, а кончается романом "Тихий
страж".
"Чешуя в неводе", принимая форму отрывочного дневника, таким образом
выявляет ту калейдоскопическую фрагментарность, которая, хотя и присутствует
в более ранних произведениях Кузмина, становится самым явным структурным
свойством его текстов только после революции. К тому же эта вторая попытка
сформулировать природу творчества уже сочетает в одно те разнообразные
гностические и мистические направления, так характерные для романа "Чудесная
жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро" и для сохранившихся отрывков последних
его романов.
Наконец, манифесты об эмоционализме, с коллективным голосом в защите
права художника на собственный путь, с острой критикой формалистского подхода
к литературе при явной подверженности творчества самого Кузмина такому
подходу, провозглашают сложную и даже противоречивую позицию, которая схематически
проявляется в немногих послереволюционных произведениях в прозе, но которую
можно подробно проследить в поздней поэзии.
Анализируя отдельные произведения Кузмина, мы всегда будем иметь в виду
единство его творчества и роль недосказанности в нем. Подобно Гоголю, которого
Кузмин пародировал в повести "Капитанские часы", и с которым он имеет
больше сходств, чем раньше преполагалось, Кузмин в своих лучших произведениях
делает грунт из фигур, и смысль из синтаксиса. Подобно Гоголю, он не может
быть понят без своих ненаписанных произведений. Одни из них, как например,
его Книга о святых воинах, остались в воображении автора; другие, как роман
"Пропавшая Вероника" или остальные главы романов "Римские чудеса" и "Златое
небо", вероятнее всего, просто пропали во время второй мировой войны, хотя
всегда есть надежда, что каким-то чудом они уцелели и когда-нибудь в будущем
еще увидят свет. Но есть еще и другие произведения, виртуальные, возникающие
в перекрещенияx его сохранившихся стихов и прозы, и именно они, невидимые,
молчаливые, служили основой для "открытого текста" "Поэмы без героя" Ахматовой,
именно они побудили ответные аккорды в таких работах Мандельштама, как
"Сестры - тяжесть и нежность" и "Египетская марка"; именно они, наконец,
дают Набокову возможность создать "раздвоенного" рассказчика "Соглядатая"
и служат подтекстами его рассказа от1928/30-го годов "Уста к устам".
Может быть, даже при всех этих связях творчества Кузмина с работой других
авторов (не говоря уже о вопросе его влияние на них) Иванов все-таки снова
утвердил бы, что "М. Кузмин - простой и ясный художник". Но как Валери
однажды писал о Малларме: "Qu'est-ce qu'il y a de plus mysterieux que la
clarte?"
ПРИМЕЧАНИЯ
1Back to Text. Вячеслав Иванов, "О прозе М. Кузмина", Аполлон No. 7 (1910), с. 46.
2Back to Text. Борис Эйхенбаум, "О прозе М. Кузмина", Сквозь литературу (Ленинград:
Academia, 1924), с. 196.
3Back to Text. Бывают и исключения, как например диссертация Нила Гранойена "Mixail
Kuzmin: An Aesthete's Prose" (UCLA, 1981), но, как утверждает сам автор,
это - "an interpretation that draws upon inner biographical realities and
the external sources that comprised his interests, leaving aside a close
analysis of style and structure." (с. 7).
4Back to Text. Roman Jakobson, "Randbemerkungen zur Prosa des Dichters Pasternak",
Slavische Rundschau, 7 (1935), с. 357. Кузмин пришел к одинаковому заключению
в своей статье"Парнасские заросли", Завтра No. 1 (1922), с. 114, и может
быть Брюсов лучше всех выразил эту мысль: "Быть может, все в жизни лишь
средство / Для ярко-певучих стихов?".
5Back to Text. Denis Mickiewicz, "Apollo and Modernist Poetics", Russian Literature
Triquarterly No. 1 (1971), с. 245.
6Back to Text. Jakobson, с. 357-8.
7Back to Text. George Cheron, "B. Pasternak and M. Kuzmin, (An Inscription)", Wiener
Slawistischer Almanach, 5 (1980), с. 67.
8Back to Text. Борис Пастернак, Доктор Живаго (Ann Arbor: University of Michigan
Press, 1959), с. 451-2. Случайно ли, что сразу после этого Живаго сочиняет
свою "Сказку", сочетая западноевропейскую и русскую традиции о святом Георгии
и змее? Это одна из любимых тем Кузмина.
9Back to Text. См. John A. Barnstead, "Nabokov, Kuzmin, Chekhov, and Gogol': Systems
of Reference in 'Lips to Lips'", в книге Studies in Russian Literature
in Honor of Vsevolod Setchkarev. (Columbus : Slavica, 1986), с. 50-60.,
под редакции Джулиана Коннолли и Сони Кетчян.
10Back to Text. Лидия Чуковская, в Записках об Анне Ахматовой, том 1: 1938-1941,
(Paris: YMCA Press, 1976), с. 150-1, пишет, что Ахматова сравнивала дневник
Кузмина с дневником Вигеля, и вместе с Ольгой Глебовой-Судейкиной считала,
что он "нечто чудовищное". Кузмин имел обыкновение читать друзьям вслух
интимные выдержки из своего дневника: см. Вячеслав Иванов, Собрание сочинений,
том 2, с. 784, 793 (от 6-го and 21-го августа 1909-го года). "Чешуя
в неводе" впервые появилась в сборнике Стрелец no. 3 (1922) с. 96-109.
К. Н. Суворова опубликовала отрывки из дневника (с купюрами) в статье "Письма
М. А. Кузмина к Блоку и отрывки из дневника М. А. Кузмина", Литературное
наследство 92 (Москва: "Наука", 1981): Александр Блок: Новые материалы
и исследования, Книга 2, с. 143-174. См. также у Малмстеда, Собрание
стихотворений, том 3, с. 306-7, (обсуждение дневика после 1930-го
года). За последние годы появились отдельные издания дневника от
1921-го, 1931-го и 1934-го годов.
11Back to Text. Klaus Mann, Andre Gide and the Crisis of Modern Thought (New York:
Creative Age Press, 1943), с. 16.
12Back to Text. John E. Malmstad, "Mixail Kuzmin: A Chronicle of his Life and Times",
Собрание стихотворений, том 3, с. 7-319. Мое краткое изложение биографии
Кузмина до конца 1904-го года полностью составлена на основании данных
Малмстеда. Для позднего периода я иногда могу не согласиться с отдельными
подробностями его работы; эти места оговариваются в примечаниях.
13Back to Text. К. Н. Суворова, "Архивист ищет дату", Встречи с прошлым. Сборник
неопубликованных материалов ЦГАЛИ СССР, выпуск 2 (Москва: "Советская Россия",
1976), с. 118-119.
14Back to Text. Цитируется по Малмстеду, Собрание стихотворений, том 3, с.
33.
15Back to Text. Vladimir Markov, "Italy in Mikhail Kuzmin's Poetry", Italian Quarterly
vol. 20, nos. 77-78 (Summer-Fall, 1976), с. 5-18. Ранний неопубликованный
рассказ, "В пустыне" (GPB, f. 400, op. 1, ed. xr. 9), восходит к
1897-му году.
16Back to Text. Цитируется по Малмстеду, Собрание стихотворений, том 3, с.
51.
17Back to Text. Михаил Кузмин, Параболы (Петербург-Берлин: Petropolic, 1923), с.
14.
18Back to Text. Там же, с. 15.
19Back to Text. Конечно, фигуры Орфея и Нарцисса связывались в литературе задолго
до Кузмина. Ранним примером служит следующий отрывок из романса "Фламенка"
из третьей четверти тринадцатого века, где легенды о них последовательно
излагаются:
L'us diz com neguet en la fon
Вторая, еще более утонченная связь, дается в книге Марсилия Фикина,
Commentarium in Convivium Platonis, 1469:
Hinc crudelissimum illud apud Orpheum Narcissi fatum.
См. Louise Vinge, The Narcissus Theme in Western European Literature
up to the Early 19th Century, (Lund: Gleerups, 1967), с. 88-89, 123-127.
Образы орфея и Нарцисса не сливаются в рассматриваемых здесь стихотворениях,
а только связываются. Они только частично подвергаемы анализу Герберта
Маркуза в восьмой главе его книги "Eros and Civilization". Они не
примиряют Эроса с Танатосом; их цель не просто "быть такими, какие они
есть" т.е. простое существование: Орфей в стихотворении "Муза" это суть
превращенного; Нарцисс во втором стихотворении это суть потенциального,
становления, а не бытия. Фрейдовское понятие первичного нарциссизма, однако,
вполне удовлетворительное описание состояния до творения мира у Кузмина;
для Фрейда:
Originally the ego includes everything, later it detaches from itself
the external world. The ego-feeling we are aware of now is thus only a
shrunken vestige of a far more extensive feeling - a feeling which embraced
the universe and expressed an inse parable connection of the ego with the
external world. (Civilization and Its Discontents, p. 13)
а для Кузмина:
В жизни каждого человека наступают минуты, когда, будучи ребенком, он
вдруг скажет: `я - и стул', `я - и кошка', `я - и мяч', потом, будучи взрослым:
`я - и мир'. ("О прекрасной ясности").
Маркуз приходит к заключению, что образы Орфея и Нарцисса имеют своей
целью объединить все, что было в разрыве; та же цель наблюдается
и у Кузмина; в стихотворении "Вот после ржавых львов и рева...", написанном
до двух рассматирваемых здесь стихотворений, но помещенном после них в
книге "Параболы", в разделе "Пути Тамино" Кузмин описывает, как Орфей ведет
Евридику через болотистые места на блаженные рощи благодати; судя по стихотворению
"Конец второго тома" в том же сборнике, эти болотистые места символизируют
создание мира до его сотворения, до разделения вод от суши. Цель Орфея
- возврат на состояние неразрывности, характерное для мира до его сотворения.
Нарцисс имеет подобную цель: в стихотворении "В раскосый блеск зеркал..."
небо и воды сливаются (строки 1-4). Для Кузмина связь Орфея с Нарциссом
это отказ от Дионисия Вячеслава Иванова и от присущей русскому символизму
двойственности. В этом отношении Кузмин уходит от орфической традиции,
связывающей всех трех. Для более подробного изложения эту связь, см. Walter
A. Strauss, Descent and Return. The Orphic Theme in Modern Literature (Cambridge:
Harvard UP, 1971), с. 5-8, 18-19.
20Back to Text. Михаил Кузмин, "О прекрасной ясности", Аполлон No. 4 (январь, 1910),
с. 5. Обратите внимание и на употребление слова запечатлеть в стихотворении
"Мой портрет", Сети с. 33, строки 5-6:
Клеймом любви навек запечатленны
Один из любимых рассказов Лескова у Кузмина - "Запечатленный ангел"
(see Malmstad, SSIII, p. 210); Эйхенбаум неслучайно приводит этот рассказ
в пример в своей статье о прозе Кузмина.
21Back to Text. Михаил Кузмин, "Римские чудеса", Стрелец 3 (1922), p. 16. Образ
утопленного юноши появляется в разных формах у Кузмина, начиная с Нарцисса
в Курантах любви, и включая Антиноя и Гиласа. Он тесно связан с самопредставлением
самого Кузмина: его кличка в Кабачке Гафиза была Антиой. Образ приобретает
более глубокое значение, когда друг Кузмина, художник Сапунов, тонет, но
основное его значение выясняется уже в "Крыльях", когда Ваня Смуров смотрит
на утопленного мальчика, который носит то же имя Ваня: это начало духовного
кризиса Смурова, кончающегося тем, что он примиряется с идеей гомосексуального
образа жизни. Дерек Гаррис указывает на то, что этот образ часто встречается
в произведениях авторов-гомосексуалистов, и дает примеры такого употребления
в произведениях Крейна, Лорки и Сернуды. См. Derek Harris, Luis Cernuda:
A Study of the Poetry (London: Tamesis Books Ltd., 1973), с. 50, прим.
42. Для обсуждения образа рыбы у Кузмина см. John E. Malmstad and
Gennady Shmakov, "Kuzmin's `The Trout Breaking through the Ice'" в книге
George Gibian and H.W. Tjalsma, Russian Modernism (Ithaca: Cornell UP,
1976), с. 143-4. Образ рыбы в "Музе" связан с образом солнца в книге Форель
разбивает лед через аквамарин:
Тебе надоело ведь
(с. 9, "Первое вступление", строки 6-7)
22Back to Text. По древнему обычаю римский папа дарит золотую розу христианам, заслужившим
его особенное внимание.
23Back to Text. Михаил Кузмин, "Мачеха из Скарперии", Девственный Виктор (Петроград:
М. И. Семенов, 1918), с. 79-94.
24Back to Text. Более подробноое обсуждение этих элементов следует за самим рассказом.
25Back to Text. "Мачеха из Скарперии", p. 84.
26Back to Text. Там же, p. 85. Власть над птицами символизирует творчество у Кузмина,
см. первое стихотворение его третьего сборника стихов, Глиняные голубки.
27Back to Text. Cf. Вячеслав Иванов, "О веселом ремесле и умном веселии", Золотое
руно No. 5 (1907), с. 54: "И даже М. Кузмин, эстет и парнасец, подлинный
отпрыск александрийской культуры, живой анахронизм среди нас, стилист,
невольно делающий - не думая по-французски - очаровательные галлицизмы
и в своих небрежнейших произведениях хранящий печать истинного латино-французского
классицизма, - и он половиною своей души принадлежит нашей варварской стихии,
- у себя дома в мире старообрядчества и слагает первые опыты простодушных
мистерий. Все эти художники родились `из духа музыки', под знаком
музыкально-оргийного, варварского Диониса." [курсив мой]. Эта часть
статьи была пропущена когда она была переиздана в книге Иванова По
звездам. Зоя Юрьева дает интересный обзор Орфея в русском символизме в
своей статье "Миф об Орфее в творчестве Андрея Белого, Александра Блока
и Вячеслава Иванова", American Contributions to the Eighth International
Congress of Slavists (Columbus: Slavica, 1978) том. 2, с. 779-799. Мандельштамовский
образ Орфея особенно близок к Орфею Кузмина (см. прим. 70).
28Back to Text. Михаил Кузмин, "Рыба", Нездешние вечера, (Берлин: Слово, 1923) с.
88-9. Порядок расположения материала в сборнике "Условности" значителен
в этом отношении: он начинается с драмы, переходит на оперу, потом на прозу,
потом на поэзию и кончается живописью. Эти предметы встречаются в
обратном порядке в творческом мире Ахматовой: согласно Аманде Гайт, Ахматова
сказала поэту Анатолию Найману "When I was young I loved architecture
and water, now I love music and earth." (Anna Akhmatova, a Poetic Pilgrimage.
NY: Oxford, 1 976, с. 183.) То же упорядочение встречается и в статье Jeffry
Mehlman "Orphee Scripteur: Blanchot, Rilke, Derrida", Structuralist Review,
том 1, no. 1 (весна, 1979 ), с. 42-75. О Кузмине как о "зрительном" поэте
см. Е. Аничков, "Последние побеги русской поэзии", Золотое руно No.
2 (1908), с. 53-54.
29Back to Text. Михаил Кузмин, Куранты любви, Собрание стихотворений,
том 1, с 13.
30Back to Text. Михаил Кузмин, "Тень Филлиды", Золотое руно No. 7-9 (1907), с. 83-87.
31Back to Text. Михаил Кузмин, "Принц Желание", Покойница в доме, (Петербург: М.
И. Семенов, 1914) с. 113-122.
32Back to Text. Параболы, p. 9.
33Back to Text. В сборнике Зеленый соловей (Петроград: М. И. Семенов, 1916)), с.
71-98.
34Back to Text. Михаил Кузмин, "Мне снился сон: в глухих лугах иду я...", Глиняные
голубки (Петербург - Берлин: "Petropolis", 1923), с. 59, строки 9-16.
35Back to Text. См. John A. Barnstead, "Mikhail Kuzmin's `On Beautiful Clarity'
and Viacheslav Ivanov: A Reconsideration", Canadian Slavonic Papers 24
no. 1 (март, 1982), с. 1-10.
36Back to Text. Михаил Кузмин, "Нет, не зови меня, не пой, не улыбайся...", Осенние
озера (Москва: Скорпион, 1912), с. 68, строки 8-12.
37Back to Text. Пример пророчества зеркалами дается в Александрийских песнях:
Ты - как у гадателя отрок:
(Сети, с. 146, строки 1-2, 5-8)
38Back to Text. Михаил Кузмин, Новый Гуль (Петербург: "Academia", 1924) с. 29, строки
1-6. См. также "В один сосуд грядущее и прошлое стекло", line 12 of "Вожатый",
part 6, in Сети, p. 117.
39Back to Text. См., например, его комментарии о расщепленности духа and расколотой
душе в статье "О прекрасной ясности", Аполлон No. 4 (январь, 1910), с.
5. Его стихотворение "О плакальщики дней минувших" в цикле "Мудрая встреча"
посвященное Вячеславу Иванову, может быть упрекает Иванова в этом греху:
его строка 18 "Не сожалей и не гадай" предвосхищает строку 13 стихотворения
"В раскосый блеск зеркал...".
40Back to Text. Параболы, с. 9, строки 1-3.
41Back to Text. Параболы с. 13, строка 14. Процесс слияния начинается в разделе
"Лодка в небе" в Нездешних вечерах.
42Back to Text. Эта тема, которую Джекоб Стокинджер считает различительным признаком
текстов, выражающих гомосексуалистскую точку зрения в своей статье "Homotexuality:
A Proposal" in Louie Crew (ed.), The Gay Academic (Palm Springs: ETC Publications,
1978), с. 135-151, подробно анализируется для Крыльев в статье "The Platonic
Theme in Kuzmin's Wings", Slavic and East European Journal, том 22, no.
3 (1978), с. 336-347. Другие произведения, в которых зеркало выполняет
подобную функцию, включают "Плавающие путешествующие", "Тихий страж", "О
совестливом лапландце и патриотическом зеркале", and "Шелковый дождь".
43Back to Text. Сети, с. 116, строки 5-8.
44Back to Text. Сети, с. 128, строки 5, 13.
45Back to Text. Глиняные голубки, с. 46, строки 1-6.
46Back to Text. Глиняные голубки, с. 120, строки 1-4.
47Back to Text. Эта фраза взята из стихотворения "Мой портрет", Сети, с. 33, строка
5.
48Back to Text. Сети, с. 114, строки 1-5.
49Back to Text. Осенние озера, с. 32.
50Back to Text. Фраза "юнеющих ланит" в строке 14 стихотворения "В раскосый блеск
зеркал... " сввидетельствует о том, что в перевернутом мире этого стихотворения
само время течет в обратном направлении. Перевертывание пространства
проявляется, если сравнить восьмую строку стихотворения "В раскосый
блеск зеркал... " с девятой строкой стихотворения "Невнятен смысл твоих
велений...": "Твой взор, пророчески летучий".
51Back to Text. См. мою статью "Mikhail Kuzmin's `On Beautiful Clarity' and Viacheslav
Ivanov: a Reconsideration", Canadian Slavonic Papers, vol. 24, no. 1 (March,
1982), с. 1-10.
52Back to Text. Вячеслав Иванов, Собрание сочинений (Brussels: Foyer Oriental Chretien,
1974) том 2, с. 450.
53Back to Text. Употребление синекдохи, чтобы вывести из девяти муз Иванова единственную
музу Кузмина не случайно: этот прием не раз применяется Кузминым в целях
полемики. Иванов замечает скептицизм остальных членов Кабачка Гафиза
по отношению к его проповедыванию о "мистическом энергетизме". Он
пишет: "Они сердятся на, 'моралиста' и думают, что это одно из моих девяти
противоречий. ("В чем мудрость Муз?" спросили меня. Я сказал:
"В том, что их девять: поэзия - девять противоречий"). Между тем,
это - мое настоящее и верное."
54Back to Text. Там же, с. 531. Кузмин и раньше употребил "Rosarium" чтобы
характеризовать Иванова: он ссылается на этот цикл в стихотворении на именины
Иванова в марте 1911-го года.
55Back to Text. Евгений Зноско-Боровский, "О творчестве М. Кузмина", Аполлон No.
4-5 (апрель-май, 1917), с. 36-56; Эйхенбаум, с 198-199.
56Back to Text. Vladimir Markov, "Поэзия Михаила Кузмина", Собрание стихотворений,
том 3, с. 402. См. также Сергей Маковский, На Парнаце "серебряного века",
с. 22.
56Back to Text. Михаил Кузмин, "Лесенка", Параболы, с. 105, последняя строка.
58Back to Text. Михаил Кузмин, "Как я читал доклад в `Бродячей собаке'", Синий журнал
No. 18 (1914), с. 6.
59Back to Text. Михаил Кузмин, предисловие к роману Юрия Юркуна, Шведские перчатки
(Петербург: С. И. Семенов, 1914), с. 4.
60Back to Text. Susan Sontag, "On Style", Against Interpretation (New York: Dell
Publishers, 1966), p. 19.
61Back to Text. Михаил Кузмин, "Художественная проза `Весов'", Аполлон No. 9 (1910),
с. 39.
62Back to Text. Эйхенбаум, с. 199. Возможно, что Эйхенбаум здесь имел в виду одно
место в предисловии Кузмина к роману Юрия Юркуна "Шведские перчатки": "Ю.
Юркун считает читателей за людей сообразительных и не тупых; конечно, эта
доверчивость и любезность обусловливаются возрастом автора, но может оказать
ему и плохую услугу. Я не хочу сказать, что он сознательно пишет
ребусы, но внимания требует." (с. 5). Как и в рецензии Кузмина на роман
Брюсова "Огненный ангел", многое в этом предисловии применимо и к самому
Кузмину.
63Back to Text. Михаил Кузмин, "Чешуя в неводе", Стрелец No. 3 (1922), ц. 109.
64Back to Text. Зноско-Боровский, с. 33.
65Back to Text. Михаил Кузмин, "Заметки о русской беллетристике", Аполлон No. 6
(1910), с. 43.
66Back to Text. Михаил Кузмин, "Пуститься бы по белу свету . . . ", "Глиняные голубки",
с. 75-76, строка 28.
67Back to Text. Главная разница в этих двух рассказах заключается в том, что в опере
Глюка, после того, как Орфей теряет Евридику, Любовь появляется и возвращает
ее в жизнь. Это конечное избежание трагедии подразумевается во всех
случаях, кога Кузмин трактует тему Орфея и Евридики, и особенно сильно
чувствуется в стихотворении "Орфей", напечатанном в журнале "Литературный
современник" No. 4 (апрель, 1941), с. 59, но опущенном из собраний стихов
Кузмина под редакцией Малмстеда и Маркова. Геннадий Шмаков издал вариант
стихотворения в альманахе Часть речи No. 1 (1980), с. 98-99, с посвящением
Л. Ракову и с датой "1924(?)"; вариант в Литературном современнике
посвящается художнику А. Я. Головину и датируется 5 июня 1930-го года.
Принимая во внимание природу этого стихотворения и упоминание Головина,
содержанное в нем, я склонен предпочитать второй вариант. Мандельштамовский
Орфей тоже основан на образе Орфея у Глюка:см. Steven Broyde, Osip Mandel'stam
and His Age (Cambridge: Harvard UP, 1975), с. 83-86.
68Back to Text. Михаил Кузмин, "Златое небо", Абраксас No. 3 (февраль, 1923), с.
10.
69Back to Text. Михаил Кузмин, Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро (Петроград:
"Странствующий энтузиаст", 1918/19), с. 8-9.
70Back to Text. Михаил Кузмин, "Чешуя в неводе", Стрелец No. 3 (1922), с. 107.
71Back to Text. Цитируется по статье Геннадия Шмакова, "Блок и Кузмин", Блоковский
сборник 2 (Тарту: Издательство Тартуского государственного университета,
1972), с. 348.
72. В. М. Жирмунский, "Преодолевшие символизм", вопросы теории
литературы (Ленинград: Academia, 1928), с. 278. Жирмунский правильно помещает
Кузмина среди символистов, имея в виду как мистический опыт Кузмина отражается
в его стихах, но он преувеличивает пушкинскую линию в его поэзии и придает
слишком много значения статье "О прекрасной ясности" как програмной.
Уже в "Духовных стихах" Осенних озер было ясно, что Кузмин
больше, чем поэт "милых, хрупких вещей".
73Back to Text. Neil Granoien, Mixail Kuzmin: An Aesthete's Prose, (неопубликованная
диссертация UCLA, 1981), с. 10.
74Back to Text. Владимир Марков, "Беседа о прозе Кузмина".
75Back to Text. Этот термин применяется В. Н. Топоровым, чтобы обозначить то свойство
Поэмы без героя, которое "лишает текст окончательности, законченности смысловых
интерпретаций, наоборот, делает его `открытым', постоянно пребывающим in
statu nascendi и поэтому способным к улавливанию будущего, подстраиванию
к потенциальным ситуациям." В. Н. Топоров, Ахматова и Блок (Berkeley: Berkeley
Slavic Specialties, 1981), с. 8. В этом отношении особенно уместна следующая
цитата из пьесы Кузмина Комедия о Алексее, человеке Божьем, приведенная
Марковым как эпиграф к его статье "Беседа о прозе Кузмина": --Я не
совсем понимаю последних слов. - Песня еще длинна, и из дальнейшего
яснеет смысл предыдущего. Само по себе ничто не бывает понятно.
И дальше - посредством разграничивания, ясных борозд - получился
тот сложный и прекрасный мир, который, принимая или не принимая, стремятся
узнать, по-своему видеть, и запечатлеть художники.20
Волнистое движение рыб, отражающее спуск и возврат Орфея, повторяется и
в отрывочном романе "Римские чудеса", где оно перекликается с циклом смерти
и воскресения, предсказанным для героя:
Он стыдился, краснел, чего впрочем не было особенно заметно
при заре, и упрямо рассматривал рыб, которые подплывали, сонно раззевали
рты, ожидая крошек, и опять опускались на дно, где нарисован был Гилас.21
В "Музе" осуществление классического в христианском, постоянная функция
искусства у Кузмина, получилась бы, какие бы не были ожидания музы, ибо
и рыба, и златистая роза - древние христианские символы,22 но
вещее, хотя и предвзятое, мнение музы по-видимому мешает ей участвовать
в творческом процессе: стихотворение кончается, а она все еще ждет. Этот
неуспех подразумевается в самой структуре слова `невод': не + вод,
намек на то, что отсутствие Вожатого, таинственного мужского эквивалента
музы у Кузмина, изображенного во втором стихотворении как Нарцисса, но
в других стихах как Святого Георгия, архангела Михаила, Гермеса или голого
отрока, обречает его женскую пару на непонимание.
Опасность для его чести и жизни, о которой предупреждал его
Никола, не затрагивала его воображения, не рисовала никаких картин, и нисколько
не подходила на зерно, которое пускает росток в принявшую его землю, а
скорей схожа была с камнем, брошенным в воду и образующим только на поверхности
легкие скороисчезающие круги.25
Косвенное слияние Нарчизетто с Орфеем отражает, хотя бы и довольно отдаленно,
отклонение Кузмина от принципов символизма. Когда Нарчизетто бросает Николу,
это ученик бросает своего учителя; в частности он оставляет музыку.
Никола плачевно спрашивает:
Когда ты был ребенком, не я ли вырезывал тебе дудки из тростника
и доставлял птичьи гнезда с птенцами? Я не мог тебя выучить верхом,
но я тебе показал, как играть в шахматы, как удить рыбу и приманивать птиц.
Ты помнишь это, не правда ли?26
Это оставление сопровождается переходом от слуховой ориентации первых двух
строк "Музы" на зрительные образы начала второго стихотворения. Междутекстовое
движение от невода к сетям, точно так же как и внутритекстовое уходом самого
невода в "глухие воды" от "вещего лепета", является уходом от того звукого
истока, которое Вячеслав Иванов предположил для символистов вообще и для
Кузмина в частности.27 `Глас' становится `глазом'. Голова Орфея
может воплотиться или в рыбе или в розе, но в обоих случаях она остается
беззвучной. Это отход от столь важных для символизма орфических образов,
отражающихся в статье самого Кузмина об опере Глюка "Орфей и Евридика",
переход на искусство, вдохновленное Нарциссом и укореняющееся в безмолвном
зрительном, в том, что Кузмин назвал "благовестия самой немой из рыб" в
своем гностическом стихотворении "Рыба".28 Так же и в этом стихотворении,
напрасное ожидание связывается с неводом, и в форме починенного невода
Андрея и в форме серебряного невода Голого Отрока, стремящегося уловить
"благовестия" в златодонном ведре солнца; слово `невод' заменяется словом
`сети' когда персона самого поэта ныряет в сети отрока, подчиняясь действительной,
творческой любви, как в следующих строках из Курантов любви:
Любовь расставляет сети из крепких шелков
Зловещая любовь расставляет сети в рассказе "Тень Филлиды",30
где бедный рыбак Нектанеб вытаскивает утопленницу и возвращает ей жизнь;
ироническая любовь приносит бедному китайскому рыбаку Не-пью-чаю его счастье
когда его починенные сети наконец разрываются, превращая его в богатого
и благородного Сам-чина в рассказе "Принц Желание",31 но в обоих
случаях сети достигают своих целей, и таким образом сохраняется разница
в употреблении сетей и неводов.
Любовники как дети ищут оков.29Недвижно царственная, как статуя
Если принимать во внимание их расположение в Параболах, стихотворение "В
раскосый блеск зеркал... " носит печать искусства, тогда как "Муза" носит
печать природы. Замена зеркала природы зеркалом искусства имеет мифическое
значение в кузминском отходе от символизма и от эстетихеской системы Иванова,
ибо она будто повторяет функцию зеркала, данного младенцу Дионисию, чтобы
его отвлечь от его растерзания менаедами. Это растерзание было совершено,
как ни странно, инструментом объединения. Точно так же призыв Кузмина на
гармонию и простоту в статье "О прекрасной ясности" дал толчок кризису
в символизме в 1910-м году.35
Она держала, как двойной трофей,
Два зеркала и, ими негодуя,
Грозила мне; на том, что поправей,
Искусства знак, природы - тот левей,
Но как в гербе склоненные стропила,
Вязалися тончайшей из цепей
Для тех, кого повязка не томила.34О юность красная, смела твоя беспечность
Сочетая это качество со своими магическими, пророчествующими свойствами,
зеркало является элементом, впитающим в себя все время и все пространство,
создавая единство `теперь' и `здесь'. Его функция как своего рода orbus
pictus подчеркивается в последнем стихотворении Нового Гуля:
Но память зеркала хранит,
И в них увидишь ты минутной, хрупкой вечность
И размагниченным магнит..36Держу невиданный кристалл
Это свойство зеркала подразумевается в строке "Не вспоминаю я и не гадаю,
-" в стихотворении "В раскосый блеск зеркал... ". Время само останавливается
отраженным образом юноши.
Как будто множество зеркал
Соединило грани.
Особый в каждой клетке свет:
То золото грядущих лет,
То блеск воспоминаний.38Косые соответствия
Порядок слов здесь дает возможность двух толкований этих строк: фраза `косые
соответетвие' может отнoситься или к `зеркальным сферам' или к `пространству'.
Эта двузначность продолжается и в стихотворении "Искусство", сразу предшествующем
стихотворению "Муза":
В пространство бросить
Зеркальных сфер, -40Напрасно бес твердит: "приди:
Образ крови, сочащейся из-под ваты, таким образом, намекает на возобновленное
присутствие Вожатого, который, отождествляясь с Эросом, но одновременно
и превышая его, клеймит Кузмина вечным клеймом любви.47 Именно
Вожатый представляется персоне Кузмина на гранитной глыбе, так как само
зеркало интимно связано с Вожатым. Зеркало было подарком поэту, постоянным
напоминанием о мистическом провидении, в котором Кузмин объединился с ним
навеки:
Ведь риза - драна!"
Но как охрана горит в груди
Блаженства рана.43
........................................................
Но к алой ране я привык.44
Бросил взор я на рябину:
-O, запекшаяся рана!
Мальчик, выбрав хворостину,
Пурпур ягод наземь бросит -
А куда я сердце кину?45
Любви напев летит.
Опять, опять открылась рана,
Душа горит.46Взойдя на ближнюю ступень,
"В раскосый блеск зеркал..." также сосредоточивает внимание на характерный
для Кузмина интерес к определению точки зрения, и на его привычку осмотреть
отдельное событие с разных сторон. Слияние небесных и водяных образов в
первом четверостишии стихотворения намекает на то, что все стихотворение
рассказывается с перевернутой точки зрения. Это становится ясно, когда
стихотворение сравнивается со следующим сонетом, посвященным Всеволоду
Князеву, одному из фигур кузминской биографии, который воплощает идеалы
Вожатого, гусару-поэту, чье самоубийство было выбрано и Кузминым и Ахматовой
как лейт-мотив в поэмах Форель разбивает лед и Поэма без героя:
Мне зеркало вручил Вожатый;
Там отражался он как тень,
И ясно золотели латы;
А из стекла того струился день.48
Коснели мысли медленные в лени,
"В раскосый блеск зеркал..." переворачивает позицию говорящего в этих двух
стихотворениях, и это переворачивание действует и на пространство и на
время.50 Со стремящейся вверх перспективы сонета уже полдень;
золото - облако на небе. Это резко отличается от зари и золотых озер в
стихотворении "В раскосый блеск зеркал ", где перспектива стремится вниз.
Сонет передается с точки зрения отрока в стихотворении "В раскосый блеск
зеркал... ", тогда как это последнее стихотворение повествуется с точки
зрения того голоса, который пропевает "живи", но и в том и в другом случае
Вожатый воплощает Другого. Этот Другой играют роль музы в самом буквальном
смысле: вдохновление как животворение, что подчеркивается в сонете употрeблением
фразы "голос нежный", что невольно приводит на ум стихотворение Пушкина
"Я помню чудное мгновенье ".
Распластанные кости спали в теле,
Врезать лазурь голубки не хотели,
И струй живых не жаждали олени.
Лежал недвижно у недвижной ели?
Из купола небес, как из купели,
Янтарь стекал мне сонно на колени.
А горлицы взметнулись тучкой снежной
С веселым шумом крыл навстречу стрел.
Пропел "живи" мне чей-то голос нежный, -
И лик знакомый в блеске я узрел.49Тебя зовут у волн, где солнце пел Орфей,
В стихотворении Кузмина музы сводятся к одной молчащей представительнице.
Это - типичный прием Кузмина в полемике с Ивановым: синекдоха употребляется
для конкретизирования. В "Музе" богиня появляется только в названии;
в самом стихотворении она лишь "задумчивая дева".53
Над розой плачущие Музы!52Не знаем счастья мы, как невод золотого
Тогда как для Иванова Бог является заранее существующим Другим, сотворившим
человека ни из чего, для Кузмина, как будет видно после анализа его теоретических
утверждений о природе творчества в статьях "О прекрасной ясности" и "Чешуя
в неводе", человек сотворяется вместе с остальной вселенной путем саморазделения.
В отличии от Иванова, у которого невод бросается в небо, и который с кузминской
точки зрения обречен на неудачу, у Кузмина сети бросаются в блестящее единство
неба и воды и таким образом указывают в конечном итоге на успех его поисков
самого себя путем самосозерцания. Его ссылки на Иванова соединяют начало
и конец цикла "Rosarium", замыкая характерный для всего творчества Кузмина
круг. Если у Кузмина поющая голова Орфея становится безмолвной розой, так
и не появляющаяся никогда в действительности, то Нарцисс через перекликания
с сонетом к Князеву становится виртуальным соловыем, чей нежный голос пропевает
"живи".
Что, рыбарь, кинул Ты в эфир, - 54
Роман может быть нов по сюжету, освещению, языку и методу творчества,
к которому относится и язык, как частичное, дробное проявление. Новизна
сюжета, к которой снова стали склоняться ленивые люди, уверяя, что они
устали от обобщений и психологии, - самая дешевая и опасная новизна.
Она похожа на погоню за редкими рифмами и очень истощима. Пройден
круг - и неизбежны повторения и неестественность, бросающаяся в глаза.60
И в докладе и в предисловии Кузмин вызывает писателей быть простыми в форме,
искренними и сложными в содержании, дифференцируя эти два вида творческого
процесса до предельности. Такое прославление дихотомии, которую современная
критика почти единогласно отрицает, и является основным принципом той стилизации,
традиционно считавшейся самим типичным свойством кузминской прозы.
Как пишет американский критик Сюзан Сонтаг:
Stylization' is what is present in a work of art precisely
when an artist does make the by no means inevitable distinction between
matter and manner, theme and form.61
Как это ни странно, такая же дихотомия самая характерная черта Кузмина
как художник в обществе: его отказ от участия в каких бы то ни было школах,
движениях или учреждениях, препятствующих творческой деятельности индивидуальной
личности в искусстве. Она лежит в основе системы значений кузминских
текстов. В своем обсуждении романа Брюсова "Огненный ангел" Кузмин открывает
принцип, необходимый для понимания этой стороны его собственного творчества:
[Стилизация присутствует в литературном произведении именно тогда,
когда художник принимает совсем необязательное различие между манерой и
содержанием, между темой и формой.]Нам кажется, что мы не ошибемся, предположив за внешней и психологической
повестью содержание еще более глубокое и тайное для `имеющих уши слышать'
но уступим желанию автора, чтобы эта тайна только предполагалась, только
веяла, и таинственно углубляла с избытком исполненный всяческого содержания
роман.62
Точно таким же образом интервалы загадочности и недосказанности в прозе
Кузмина порождают своей формой виртуальные образы, подразумеваемое содержание,
что значительно увеличивает ее эстетический эффект. Эйхенбаум приходит
к подобному выводу когда он пишет о кажущихся второсортными произведениях
Кузмина:
Рассказ становится загадочным узором, в котором быт и психология
исчезают - как предметы в ребусе. Современность использован как фон,
на котором резче выступает этот узор. Когда кажется, что Кузмин "изображает"
- не верьте ему: он загадывает ребус из современности.63
В последнем отрывке в "Чешуе в неводе" Кузмин подводит итоги:
Заглавие: "Чтения к назиданию светским, благочестивым же к
развлечению людям.64
Хотя решение всех ребусов Кузмина вряд-ли удастся найти, принципы, по которым
они строятся, обычно могут быть восстановлены.
И вот - если принять основой стихией Кузмина - любовь, а он
сам говорит: `Любовь - всегдашняя моя вера' (`Сети' - `Радостный путник')
и в этом более прав, чем в любом другом утверждении, - то эволюция этого
чувства в его произведениях представляется очень значительной.65
Конечно, надо иметь в виду и следующее замечание самого Кузмина:
Можно подобрать рассказы о рабочих, о духовенстве, о студентах,
о сановниках, о сектантах - что я знаю? - наконец, ненависть, скупость,
гордость, все семь смертных грехов могут служить таким объединяющим мотивом,
но любовь - кто же не пишет о любви? не все ли написано ею и о ней?.. Тема
так широка и обща, что под ее флагом можно было бы пустить почти все выходящие
в свет книги.66
А все-таки..."Любовь - наш верный рулевой".67 Придти к заключению
Зноско-Боровского, что любовь уступает свое место как центральная тема
творчества Кузмина в пользу других обобщенных понятий во второй половине
его художественной деятельности, значило бы пропустить урок анализированных
выше стихотворений. Любовь не уступает свое место, а преобразовывается,
и это преобразование одновременно является и своего рода возвращением.
Любовь в прозе Кузмина развивается в сторону, противоположную развитию
формы. Форма стремится к разрывочности, тогда как любовь все старается
объединить, начиная с нарциссизма повестей "Крылья" и "Карточный домик"
и стилизованных, плутовских произведений, через искания первых романов,
вплоть до усовершенствованной, саможертвующей любви "Тихого стража", "Чудесной
жизни Иосифа Бальзамо, графа Калиостро" и сохранившихся отрывков последних
романов. Именно этот путь описывается в стихотворениях о спуске Орфея
в ад, и в этом контексте оказывается, что для Кузмина исконная форма мифа
об Орфее происходит не от Овидия, а от Глюка.68
Эрос - божество благое и мудрое. Многие считают его древнейшим
разделителем хаоса, отцом гармонии и творческой силы. И действительно,
без соединяющей любви многое в мире распалось бы на части... Бог не виноват,
что люди его свойства, его дары обращают во зло и называют любовью беспорядочные
и гибельные страсти.69
Здесь Бог, который носился над первородным хаосом в начале статьи "О прекрасной
ясности" принимается не только как Иегову, но и как Эроса. Это окончательное
примирение платонического и христианского, последняя стадия в пути, который
Кузмин описывает в своем предисловии к роману "Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо,
графа Калиостро":
Главным образом меня интересуют многообразные пути Духа, ведущие
к одной цели, иногда не доводящие и позволяющие путнику свертывать в боковые
аллеи, где тот и заблудится несомненно. Мне важно то место, которое занимают
избранные герои в общей эволюции, в общем строительстве Божьего мира, а
внешняя пестрая смена картин и событий нужна лишь как занимательная оболочка,
которую всегда может заменить воображение, младшая сестра ясновидения.70
Эта стадия отлично формулируется в следующем отрывке из статьи "Чешуя в
неводе":
Не тайна ли Троицы? Бог - Полнота, Творчество, Единство.
Как только творчество - сейчас же два: Творец и творимое. Разделение.
Сейчас же - любовь как соединение и деятельная полнота.71
Но она и присутствует в одной или другой форме во всем творчестве Кузмина,
и находит свои корни в глубинной структуре его психики, как он сам осознал
в следующем отрывке из дневника осени 1905-го года:
Я должен быть искренен и правдив, хотя бы перед самим собою,
относительно того сумбура, что царит в моей душе, но если у меня есть три
лица, то больше еще человек во мне сидит, и все вопиют, и временами один
перекрикивает другого, и как я их согласую, сам не знаю. Мои же три лица
до того непохожи и до того враждебны друг другу, что только тончайший глаз
не прельстится этою разницей, возмущают всех любивших какое-нибудь из них,
суть: с длинной бородою, напоминающее чем-то Винчи, очень изнеженное и
будто доброе и какой-то подозрительной святости, будто простое, несложное;
второе с острой бородкой несколько фантовское, французского корреспондента,
более грубо тонкое, равнодушное и скучающее, лицо Евлогия; третье самое
страшное: без бороды и усов, не старое и не молодое, пятидесяти лет, старика
и юноши, Казанова, полушарлатан, полуаббат, с коварным и по-детски свежим
ртом, сухое и подозрительное.72
Линейные понятия "прогресса", "развития" или "эволюции", хотя они могут
оказаться полезными при описании отдельных частей работы Кузмина, все-таки
не подходят к анализу всего его художественного достижения в целом. Они
постоянно искажают отзывы критиков на его произведения. С одной стороны,
они насильно вмещают их в заранее придуманные системы классификации, которые
имеют своей целью скорее оправдание какой-нибудь обобщенной теории, чем
понимание поисков художников. Примером этого рода затруднения может служить
чуткая, но в конечном итоге обманчивая характеристика Кузмина Жирмунским
как "третьей волны" Символизма.73 С другой стороны, подобные
понятия создают впечатление недвижности Кузмина: "As the years pass there
is no discernable development of ideas but rather a repeated return to
the familiar",74 как выражает эту мысль Гранойен. За этими
двумя точками зрения стоит предпосылка, что литературные школы значимы
для искусства Кузмина и что его окончательная цель - идеи. На самом
деле Кузмин всегда ссылается на людей в отдельности, и идеи для него только
необработанные материалы для создавания эстетического эффекта, для обращения
скорее к эмоциям, чем к разуму.
Lo belz Narcis quan s'i miret;
L'us diz de Pluto con emblet
Sa bella mollier ad Orpheu;
Черты мои под Вашею рукой;
Солнце аквамарином
все в моем сердце читаешь
..............................
но знанье тут не велико
и не много слов тут и нужно
тут не надо ни зеркала ни жаровни: